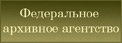ЛЕВ ТОЛСТОЙ И ИВАН БУНИН – «ПТИЦЫ НЕБЕСНЫЕ» РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (орнитосемантика: код и контекст)
В буниноведении проделана огромная работа по выявлению творческой и мировоззренческой общности Л.Толстого и Бунина. Однако «орнитологический текст» и тем более сам факт особой (как у Толстого!) привязанности этого текста в творчестве Бунина к темам памяти, вечности и бессмертия оставались вне поля зрения исследователей. В настоящей статье выдвигается гипотеза о том, что именно архетипическая «прапамять» Бунина, о которой пишут многие исследователи («прапамять» — термин Ю.В.Мальцева) и которая так важна для Бунина в Толстом («Освобождение Толстого»), а также обусловленный ею даже на психофизическом уровне сверхинтерес к Танатосу и возможностям его преодоления реализуются в орнитологическом коде бунинских произведений.
Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш небесный питает их. Мтф.: 6;26.
Сознание быть орудием тех высших сил должно заменить человеку все другие радости: в самой смерти найдет онжизнь свою, свое гнездо.
И.С.Тургенев.
Прекраснее цветов и птиц в мире ничего нет.
Еще — бабочек.
И.А.Бунин.
I
Толстовскому Пьеру Безухову Платон Каратаев очень напоминал князя Андрея. Особенно важное для Пьера их сходство заключалось в том, что «оба жили и оба умерли».[1] Это не так уж странно звучит в свете той роли, которую они оба сыграли в жизни и философских исканиях Пьера, но главный смысл этой герметической фразы автор адресует самому себе, потому что образы князя Андрея и Платона Каратаева являются ключевыми в историософской концепции «Войны и мира», а особенно в танатопоэтике (термин А.Ханзен-Лёве, кажется, уже ставший общепринятым) произведений Льва Толстого. Очень многое сближает этих персонажей: и темы разговоров с Пьером, и портретные черты, и принципиальная непротивленческая позиция в 1812 году, и ассоциативные характеристики, и одновременность смерти; даже болезнь была у них одинаковая («сделалась лихорадка», — сказано и том, и о другом). Налицо также композиционный параллелизм образов, т.к. сцены умирания князя Андрея чередуются с эпизодами, посвященными судьбе Каратаева. А главное – орнитологический код, у Толстого всегда связанный с наиболее значимыми мотивами произведения, такими как соотношение жизни и смерти, оппозиция временного и вечного, психотехника умирания, бессмертие души, память, святость и вера. Сходные орнитологические характеристики объединяют этих двух персонажей и придают им особый статус на фоне всех остальных героев книги: Андрей Болконский перед смертью мысленно пересказывает слова Евангелия о «птицах небесных», Платон Каратаев наделяется прозвищем «соколик».
Не только не утрачивается, но и возрастает значимость орнитосимволики в творчестве Толстого после «Войны и мира». Повесть «Смерть Ивана Ильича» построена на мотиве феникса, орнитологический код драмы «Власть тьмы» с ее системой «говорящих» антропонимов и знаменитым «птичным» эпиграфом не подлежит сомнению[2]. Орнитосимволика характерна и для других произведений Толстого, притом не только художественных, что говорит об устойчивости этого кода и связанной с ним области концептосферы писателя.
В буниноведении проделана огромная работа по выявлению творческой и мировоззренческой общности Л.Толстого и Бунина. Однако «орнитологический текст» и тем более сам факт особой (как у Толстого!) привязанности этого текста в творчестве Бунина к темам памяти, вечности и бессмертия оставались вне поля зрения исследователей. В настоящей статье выдвигается гипотеза о том, что именно архетипическая «прапамять» Бунина, о которой пишут многие исследователи («прапамять» — термин Ю.В.Мальцева)[3] и которая так важна для Бунина в Толстом («Освобождение Толстого»), а также обусловленный ею даже на психофизическом уровне сверхинтерес к Танатосу и возможностям его преодоления реализуются в орнитологическом коде бунинских произведений. Мотив птицы – один из самых частотных в произведениях Бунина. Однако образы птиц, центральные или периферийные, на которые столь щедра поэзия и проза Бунина, отнюдь не всегда лишь свидетельство зоркости автора и его внимания к приметам пейзажа, чаще это и отсылка к мифу, да и к сакральной теме вообще. У Толстого упоминания о птицах встречаются гораздо реже, чем у Бунина, но «концентрация» эмблематического, а порой и мифологического смысла этих упоминаний чрезвычайно высока. Подобно «птице небесной» князю Андрею и «соколику» Каратаеву, Толстой и Бунин оба жили, оба творили, оба искали бессмертия и потому стали «птицами небесными». Ушли почти в один день — Толстой 7-го, Бунин 8-го ноября, Толстой на 83 году жизни, Бунин в 83…
Для человека мифологического сознания «совершенная память <…> есть более высокое достоинство, чем способность к воспоминанию»[4]. «Богиня Мнемозина, персонифицированная Память, сестра Кроноса и Океаноса – мать всех муз, — напоминает М. Элиаде. — <…> Благодаря первоначальной памяти поэт, вдохновленный Музами, приближается к первоосновам сущего».[5] «Толстой неизменно живет с нами в наших беседах, в нашей обычной жизни» — из всех свидетельств мемуаристов о любви Бунина к Толстому эти простые слова Г.Кузнецовой, наверное, больше всего впечатляют, потому что это очень бунинская мысль: память побеждает смерть[6]. О сверхпамяти Бунина написано много, но важно подчеркнуть, что для Бунина эта мысль была не банальностью и не привычной утешительной метафорой, а побуждением к ритуальному действию, как для носителя мифологического сознания. Хочешь прожить подольше? – Больше вспоминай. С точки зрения современного обывателя это какое-то дикарство. Для Бунина – modusvivendi. «Индийская карма, — считал Бунин, — совсем не мудрствование, а физиология»[7]. Таково же и физиологическое значение воспоминания. И у Толстого это прекрасно показано, например, в возрождающей силе воспоминания князя Андрея, разговаривающего с портретом своей покойной жены. Вряд ли стоит видеть в теме памяти у Бунина исключительно влияние Толстого. Это, скорее, не влияние, а узнавание подобного себе, similessimiligaudet. Выражаясь мифопоэтически, Толстой для Бунина не психопомп, а любимый старший спутник. Умирал Бунин тоже в мыслях о Толстом, с романом «Воскресение» возле постели. Последнее обращение к Толстому; может быть, он чувствовал себя – им, с его Воскресением соединялся.
«О, Толстым есть что вспомнить! А воспоминание, — употребляю это слово, конечно, не в будничном смысле, — живущее в крови, тайно связующее нас с десятками и сотнями поколений наших отцов, живших, а не только существовавших, воспоминание это, религиозно звучащее во всем нашем существе, и есть поэзия, священнейшее наследие наше, и оно-то и делает поэтов, сновидцев, священнослужителей слова, приобщающих нас к великой церкви живших и умерших», — писал Бунин в очерке об А.К.Толстом «Инония и Китеж». О Толстых в целом он говорит, как о какой-нибудь диковинной породе живых существ, анализируя их опыт (в очерке об А.К.Толстом, в «Освобождении Толстого»). Что бы ни читал, что бы ни узнавал о Льве Толстом Бунин, он всегда примеривал это к себе, подчеркивал сходство. В Алексее Константиновиче Толстом тоже поражался совершенно такому же ощущению памяти прошлого, которое знал в себе, даже упомянул в «Жизни Арсеньева» характерное для А.К.Толстого чувство принадлежности к миру рыцарских замков. Готическое (добавим: что-то родственное А.К.Толстому) проявляется даже в «Суходоле», по справедливому мнению Д.Питерсона[8]. Итак, архетипическая, родовая память создает поэтов и поэзию, она – главное условие бессмертия, т.е. объединения со всеми жившими на земле, единственная евхаристия (благо-дарение), т.е. дар, полученный свыше, позволяющий приобщиться к вечности. Прозрение будущего возможно лишь при условии глубочайшего проникновения в прошлое.
Бунин всегда подчеркивал творческую мощь рода Толстых, и даже почвы в буквальном смысле – тех орловских, тульских, рязанских мест, давших миру великих русских писателей, многие из которых в родстве с Буниными, – Жуковского, Тургенева, Толстых… О роли памяти как главной константы бунинского творчества и мировосприятия говорит Л.А.Колобаева: «Утверждение феномена «памяти», понимаемой как естественная и необходимая защита человека от разрушительной работы времени, его неотвратимости, и смерти, — основа мировосприятия Бунина»[9]. Лев Толстой слился в сознании Бунина с Буддой или с далеким предком, каким-нибудь «первым Номадом», о котором Бунин с ужасом перед вечностью говорит в стихотворении «Храм Солнца», в очерке-рассказе «На Донце» («Святые Горы» — название сокращенного варианта). Но и это не предел памяти. М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, А.К.Толстой, Л.Н.Толстой – любимые писатели Бунина, отличавшиеся сверхпамятью, огромной значимостью мотива памяти в творчестве и наиболее мощной архетипической основой всего творчества, сознания и подсознания. Закономерно объединяет Бунина с ними и мотив памяти даже космической, родства с небом, облаками и звездами. Откуда пришел самый первый «Номад»? «Не на земле наша родина» («На Донце»)[10]. Ведь и архетипы, по Юнгу, древнее рода человеческого.
II
Но как эта память, в том числе и «космическая», связана с мотивом птицы? Можно, конечно, сказать, что метонимически – через представление о полете, даже межзвездном. Но сначала еще немного о какой-то чуть ли не мистической связи Толстого и Бунина. Что, собственно, нас, жителей XXIвека, так занимает в теме «Лев Толстой и Иван Бунин»?
Бунин с детства ощущал притяжение Толстого. Непостижимым казалось маленькому Ване даже то, что отец, его родной отец, встречался с Толстым в Севастополе. Неужели «Войну и мир» написал человек из плоти и крови, пером на бумаге? Чувство, похожее на то, которое девочкой испытала Тэффи, отправившаяся в Хамовники умолять Толстого оставить в живых Андрея Болконского, да так и не высказавшая своей просьбы, — потому, наверное, что почувствовала: есть «Божеское» и есть «человеческое». Но притяжение было самое натуральное, род гравитации: так влечет влюбленного к дому возлюбленной. Один раз юный Бунин поехал верхом из дома в сторону Ясной Поляны, не доехав, ночевал под открытым небом, всю ночь мучился: что сказать о цели визита… вернулся…
Восхищение Толстым-художником, по словам самого Бунина, привело его к толстовству, попыткам заняться бондарным ремеслом. В январе 1893 года Бунин посетил наконец Л.Н.Толстого в Москве, потом были еще встречи и переписка. Мемуарная литература о Толстом огромна. Но бунинским страницам о Толстом, даже тем, где он просто говорит о том, как они с Толстым быстро шли по заснеженной Москве и Бунин «едва поспевал за ним», даже тем, где рассказано всего лишь о воротах и передней хамовнического дома, нет равных. Что уж говорить о тех страницах, где сказано о «волчьих» глазах Толстого и «глазах волчонка» его сына Ванечки или о Толстом и Андрее Болконском как «существах иных миров»! Толстой был «окружением» Бунина в том смысле, в котором Будда, Лао-цзы или Франциск Ассизский были «окружением» Толстого.
Литературоведами ХХ века внесен огромный вклад в исследование творческих и биографических связей Льва Толстого и Бунина. Сам Бунин, кажется, не оставил здесь недосказанности, и описав личные встречи, и создав философский (как принято называть) трактат «Освобождение Толстого», значение которого, конечно, выходит за рамки биографического и даже философского труда. Это творческий, экзегетический и религиозный манифест самого Бунина.
Об «Освобождении Толстого» и о «Тени птицы» (далеко не случайное объединение!) писал П.М.Бицилли. Отверг бунинское и толстовское соединение индуизма, буддизма и христианства архиепископ Иоанн (Шаховской), как отказал, при всем своем преклонении перед Толстым, К.Леонтьев князю Андрею в праве называться христианином. Но совершенно прав Ф.А.Степун: «Ничто с такою силою не свидетельствует о подлинной религиозности бунинской музы, как ее связанность с памятью»[11]. То же самое можно сказать и о Льве Толстом. А к скольким произведениям Толстого, включая трилогию (столько раз сопоставлявшуюся с «Жизнью Арсеньева»!), можно отнести слова Н.Федорова: «Что он делал, создавая «Войну и мир», как не воссоздавал, воскрешал своих предков, хотя лишь мнимо, а не действительно»! И, наконец, то, что религиозность Бунина и Толстого была не вполне христианской, не умаляет, говоря словами Ф.Степуна, глубину их религиозного сознания.
В буниноведении сопоставлялись и стилевые, и тематические, и идейные особенности бунинских и толстовских произведений. Освещались общность и различие писателей в изображении деревни, неприятии модернизма, интересе к восточной философии. Выявлялись особенности толстовского и бунинского пейзажа, психологизма, автобиографизма. Признанные параллели – «Смерть Ивана Ильича» и «Господин из Сан-Франциско» (как бы этот рассказ ни интерпретировали: как «толстовский» или как «антитолстовский»), «После бала» и «Чистый понедельник», «Детство», «Отрочество», «Юность» и «Жизнь Арсеньева». Кстати сказать, в толстовской трилогии и романе Бунина, кроме черт романа-жизнеописания и романа воспитания, общность которых отмечалась исследователями, можно выделить и черты, типичные для т.н. инициационных текстов (у Толстого это еще и «Казаки»). Среди персонажей Бунина находили толстовцев и антитолстовцев («На даче»). Толстовскую мощь гневного обличительного периода обнаруживали в рассказе «Старуха» (и справедливо!), толстовский пафос – в рассказе «Вести с родины». Антитолстовским называли рассказ «В августе» (хотя его можно назвать отнюдь не антитолстовским, а «антитолстовецким»). Спорили о «мундире» толстовства в творчестве и в жизни Бунина (Н.Кучеровский и Ю.Мальцев). Отмечали посещение Буниным «толстовских колоний» (А.Бабореко) и участие в распространении изданий «Посредника». Искали в персонажах Бунина, например в Мелитоне из рассказа «Скит», новых Поликушек и Каратаевых. А уж в героине «Чистого понедельника», по не лишенной остроумия версии О.Лекманова, Бунин изобразил реинкарнацию самого Льва Толстого[12].
Эти примеры перекличек можно множить до бесконечности – так пронизан Толстым весь Бунин. Если, например, Мелитон – Каратаев, то чем герой рассказа «На хуторе» Капитон Иваныч не Андрей Болконский? «Будет все по-прежнему, будет садиться солнце, будут мужики с перевернутыми сохами ехать с поля… Будут зори в рабочую пору, а я ничего этого не увижу, да не только не увижу – меня совсем не будет!» — это из рассказа «На хуторе», но ведь это и мысли князя Андрея перед Бородинским сражением.
Нельзя, впрочем, сказать, что тему «Толстой и Бунин» все воспринимают в этакой идиллической умиротворенности. «Безотчетное противостояние Толстому не исчезло у Бунина никогда», — уверяет Г.В.Адамович[13]. «Морализм позднего Толстого Бунину чужд», — конкретизирует Ю.В.Мальцев[14]. Как будто ранний Толстой не проникнут «морализмом»! Вообще в сравнительных жизне- и «творчествоописаниях», как правило, один из сопоставляемых героев являет «лик», другой – то, что принято называть «личиной». Не вполне свободен от такого подхода, наверное, даже Плутарх. Тонкое понимание бунинского творчества порой сочетается с упрощенным, «общепринятым» пониманием творчества Толстого, коль скоро их приходится сопоставлять. Это, видимо, неизбежно, т.к. «сравнительный» жанр и сам по себе ориентирует на схватывание в первую очередь внешнего, резкого несходства или сходства, небрежение к нюансам. Сопоставление отдельных произведений, персонажей, приемов письма, психологической разработки, стилевых особенностей, наконец… Это не невозможно. Но идеи вне их художественной жизни, мироощущение в целом и отдельные смутные ощущения, может быть, противоречивые, не всегда находящие адекватную фиксацию даже в дневнике – при сопоставлении неизбежно превращаются в нечто более застывшее. «Бунин, как и Толстой, верил в бессмертие духа, в бессмертие того высшего, что проявляется в нашем сознании (вспомним рассказ «Музыка» или «Цикады»), но это его не утешало»[15] и т.д. — но кто может знать наверняка такие вещи даже о себе, не говоря уж о двух великих и сложнейших художниках? Вот предсмертные мысли князя Андрея и переживания героя бунинского рассказа «Преображение» — это сопоставимо.
«Если для Бунина опорным образом был образ океана, то для Толстого – реки. Река воплощает идею вечной изменчивости (человек текуч, люди как реки). Океан же воплощает неизменность. Мир Толстого находится в постоянном становлении, мир Бунина – в бытийной неподвижности», — замечает О.В.Сливицкая[16]. «У Толстого над всем доминирует развитие. <…> У Бунина, напротив, очевидна тенденция к неподвижному, неизменному», — подытоживает свое исследование В.Я.Линков[17]. И все же не слишком ли поспешно мы отказываемся видеть в бунинском психологизме и вообще мировосприятии толстовскую «диалектику души»?
««Жизнь Арсеньева» — это не воспоминание о жизни, а воссоздание своего восприятия жизни и переживание этого восприятия (то есть новое «восприятие восприятия»). Жизнь сама по себе как таковая вне ее апперцепции и переживания не существует, объект и субъект слиты неразрывно в одном едином контексте, поэтому я и осмеливаюсь назвать «Жизнь Арсеньева» первым русским феноменологическим романом», — пишет Мальцев. И далее говорит о «живом времени повествователя, схваченном и зафиксированном … во всей своей неотразимой непосредственности»[18]. Но разве это впервые встречается в русской литературе? Роман Бунина предваряет трилогия Толстого, в свою очередь во многом восходящая к Л.Стерну, у которого хронотоп воспоминания «накладывается» на процесс воспоминания – Тристрам Шенди как бы одновременно живет и в воспоминании своем, и в настоящем. Да и в целом «выход из времени», объединение «реального времени» и вечности – фундаментальное свойство инициационных структур, как показано у М. Элиаде.
Больше всего различий обычно стараются увидеть в толстовском и бунинском переживании Эроса. «Дьявола» и «Крейцерову сонату» не раз уподобляли «Митиной любви» и «Темным аллеям». Но больше расподобляли, беспокоясь о том, чтобы, вслед за М.Горьким, не обозначить Бунина подражателем Толстого. Толстой представал «этикоцентричным», а Бунин – каким-то оргиастом. Ю.Мальцев, глубоко проанализировавший связь любви и смерти в произведениях Бунина, коренящуюся в сексе как «жертвоприношении индивидуальности, жертве, которую платит личность роду»[19], в полемическом увлечении заявляет, что «несостоятельны… сопоставления «Митиной любви» с «Крейцеровой сонатой» Толстого, исполненной презрения к плоти, старческого аскетизма и рационализма»[20]. Конечно, несостоятельны сопоставления, если сопоставлять с выдуманной «Крейцеровой сонатой», а не толстовской, и приписывать произведению Толстого то, чего там нет. У Ф.Степуна сказано: «…Стихии безликого пола в душе человека противостоит любовь, такой же пол, но пол, исповедующий великое значение личности для всех отношений между людьми». Но и он не прав, утверждая: «Борьба между полом и любовью не есть для Бунина борьба между ложью и правдой, грехом и святыней, а есть борьба между двумя правдами и двумя святынями. Тут глубокое отличие бунинской эротики от толстовской»[21]. Нет, не видно тут глубокого отличия, а видна глубокая человеческая трагедия, всего вообще рода человеческого, лучше всех понятая Толстым и вслед за ним Буниным. Недаром ведь еще Наташа Ростова страдала от невозможности совместить обожание неземного князя Андрея с влечением к распутному Анатолю. Вспомним героя бунинского рассказа «Натали» и его раздвоение между «упоением» Соней и благоговением перед Натали. Налицо даже антропонимическая параллель с Наташей и Соней из «Войны и мира». И героиня «Чистого понедельника» совсем не случайно от равно завладевших ее душой и одинаково сжигающих ее «огненного змия» и «огненного ангела» спасается в «обитель», но и там – Марфа и Мария. «О трагическом значении любви» размышлял еще тургеневский Рудин. И Толстой прекрасно понимал эту трагедию, ведь Андрей Болконский и Анна Каренина погибли, а Левин, которого до сих пор многие представляют чуть ли не идеальной моделью толстовской «этикоцентричной» добропорядочности, от своего «счастья» с Кити готов повеситься. Именно Кити В.Н.Ильин назвал «крайне развратной»[22]. В «сгущенных» (выражение Чехова) рассказах Бунина все происходит еще быстрее, но происходит то же самое, что в романах Толстого. И если бы Бунин считал себя таким уж отличающимся от Толстого, он подчеркнул бы это в «Освобождении Толстого», а ведь там ни слова нет о «рационализме» или «старческом презрении к плоти». Остроту чувства плоти и проистекающую отсюда остроту чувства обреченности, взаимосвязь Эроса и Танатоса – вот что подчеркивает Бунин в мировосприятии Толстого, как самое близкое себе.
«В бунинском восприятии мира как-то чарующе своеобразно сожительствуют любовь и смерть», — писал еще в 1933 году П.Б.Струве, подчеркивая, что именно идущая рука об руку со смертью любовь «является источником всякой жизни»[23]. Конечно, не будь смерти, не было бы и обновления жизни. Любовь и смерть соединены не только в «чарующем» «бунинском восприятии», но и в самом мире, человеческая любовь изначально трагична, еще и потому, что противоречие между Марфой и Марией, летучим змием и еще выше летающим ангелом заложено в природе человеческой. Исследователи творчества Бунина и Толстого до сих пор больше озабочены размышлениями о том, считали или не считали эти писатели секс греховным, и если считали, то с каких позиций. Особенно виртуозным представляется доказать, что Бунин под видом осуждения секса на самом деле его воспевает, как например в недавней статье А.К.Жолковского о рассказе «Ахмат»: «Все выразительные ресурсы рассказа брошены исключительно на монументализацию осуждения, каковое, оказавшись бессильным против греховного либидо, тем убедительнее свидетельствует о его неистребимости»[24]. Между тем странно причислять к достижениям Бунина утверждение неистребимости либидо. Ни Бунин, ни Толстой в этой неистребимости не сомневались, как не сомневались они и в неизбежности, например, пищеварения. Вряд ли такой художник, как Бунин, ощущал необходимость хитроумно доказывать все эти неистребимости художественными средствами. А вот трагическое ощущение князем Андреем «живо осознанной <…> страшной противоположности между чем-то бесконечно великим и неопределимым, бывшим в нем, и чем-то узким и телесным, чем был он сам и даже была она (Наташа – Е.П.)»[25], — это трагическое чувство, вызвавшее слезы у героя Толстого, является действительно «монументализированным» (говоря языком Жолковского) и на эту монументализацию у Толстого «брошены все выразительные ресурсы». На то же самое «брошены» они и у Бунина. Отделять телесное от духовного в любви нельзя, а соединять почти никому не удается.
По Бунину, Толстой «все погосты оплакивает»[26]. «Меня влекли все некрополи, кладбища мира!» — сказал Бунин Г.Кузнецовой[27]. Потому что это именно смерть искушает нас «прелестью плотского мира и все новых и новых зачатий и рождений»[28], как пишет Бунин в «Освобождении Толстого». Именно в этом смысле символичны пир во время чумы и приглашение статуи Командора полюбоваться на свидание его вдовы с любовником; о свидании договариваются именно на кладбище. Смерти полюбивших героев Бунина обусловлены тем же. «Полюбив, мы умираем» — недаром цитируются эти слова Г.Гейне в «Митиной любви» у Бунина. В восточной философии любовь к женщине – причина нежелательных перевоплощений после смерти, поэтому она должна быть преодолена. Эта тема, безусловно, звучит в «Войне и мире» (предсмертное состояние князя Андрея). Для Толстого буддизм значил не меньше, чем для Бунина, и не только для позднего Толстого, как иногда думают.
В 1976 году выходит книга О.Н.Михайлова о Бунине, в которой много раз подчеркивается, что в бунинском трактате «Освобождение Толстого» фигура Толстого «сопоставима разве что с мифическими создателями всемирных религий – с Буддой или Христом»[29]. Здесь неточность, без которой в 1976 году еще нельзя было обойтись: «мифическими» Будда и Христос для Бунина не были. В наши дни «Освобождению Толстого» опять не везет, потому что бунинский взгляд на Толстого замалчивается по другой причине – теперь многие считают кощунственным само сопоставление Толстого с Христом. Строго говоря, у Бунина Толстой и Христос прямо не сопоставляются, но сопоставляются и синтезируются учения Будды, Христа, Толстого, античных и индусских мудрецов, а то, что Толстой Христа Богом не считал, не вызывает у Бунина никакого осуждения.
Наконец, к области концептуальных сопоставлений можно, пожалуй, отнести и особенности патриотического чувства Бунина и Толстого. Для обоих писателей это «скрытая теплота патриотизма», говоря словами Толстого, боль за родину и ее трагическую историю при категорическом неприятии всяческих попыток объединения понятий «родина» и «государство».
III
«Биологическая» (Ф.Степун) память Бунина закономерно проявляется в значимости зооморфного кода произведений Бунина, и орнитологического в первую очередь. Бунин любил птиц и терпеть не мог рептилий. «Точка бифуркации» — момент разделения живых существ на летающих и ползающих – это, действительно, какое-то «смутное время» в теории эволюции. Бунин иногда подозревал, что «биологическая память» может быть свойственна и ящерицам. Не только ужи, наименование которых Бунин неизменно возводил этимологически к слову «ужас», но и «симпатичные», по словам А.Бахраха, ящерицы, вызывали у Бунина панику. «Вы их не знаете, — объяснял мне Бунин, — вы не думаете о том, что их предками были страшнейшие ящеры, какие-то там игуанодоны, картинки которых я с величайшим омерзением где-то недавно видел. Наверное, они сохранили инстинкт предков и только подрастут – черт знает что наделают!» — вспоминал Бахрах[30].
Зато с птицей Бунин отождествлял свою натуру, а свою жизнь – с образом жизни птицы. В.Н.Муромцева приводит его запись: «Совсем, как птица, был я всю жизнь!»[31]. Он в детстве был потрясен рассказом матери, что вороны «живут по несколько сот лет», запомнил слова отца, что ворон, увиденный однажды на дороге, может быть, «видел татарское нашествие»[32]. Вот это память! В дневнике есть еще запись: «Сорочка со скребом когтей перебралась через потемневший от дождя забор из сада и пробежала мимо окна, улыбнувшись мне дружески, сердечно и замотав хвостом. Как наши души одинаковы!»[33].
В «Жизни Арсеньева» описана психологическая «птицетравма» — убийство героем грача. Мотив птицы сплетается с мотивом смерти, мотивами греха и покаяния. Но есть и страницы, посвященные лесу под названием «Заказ» (так назывался лес в Ясной Поляне), и дроздам, и вальдшнепу, счастливо уходящему от охотника в этом Заказе. В лирике Бунина мотив птицы занимает огромное место. Упоминаются, наверное, почти все породы птиц, встречающиеся в средней полосе России. По частоте упоминаний о птицах лирику Бунина, может быть, можно сравнить лишь с поэзией родственного ему (не только генетически, но и творчески) В.А.Жуковского. В работе Н.Ж.Ветшевой об орнитологическом тексте В.А.Жуковского убедительно показано, как «символизация орнитологической атрибутики» воплощает «идею единства жизни с цветами и птицами и вечности искусства»[34].
Орнитологический текст как Толстого, так и Бунина еще не прочитан мифопоэтически. Стихотворение Бунина «В степи» (1889), например, на профанном уровне вполне может быть воспринято как зарисовка осеннего пейзажа и как вариация на тему противопоставления: преданность родине — и кочевой (космополитический) образ жизни птиц. Журавль – птица, в мифологии устойчиво связанная с образом поэта. Но построение стихотворения, его сложный ритмический рисунок, упоминание журавлей и анаграммирование этого слова, повтор слов «кочующие птицы» — это приемы, заставляющие задуматься о связи этого текста не только с сюжетом об Ивиковых журавлях, встречающимся и в балладах Жуковского, но и с мифологическим значением журавлей как изобретателей магической т.н. «лабиринтной» пляски (исключительно сложного для непосвященных рисунка). Кроме того, мифологи отмечают роль журавлей в изобретении алфавита и связь с другими литературными тайнами. Так, например, «Гермесу приписывается изобретение алфавита после того, как он понаблюдал за полетом журавлей»[35].
Стихотворение «Степь» (1912) перекликается со стихотворением «В степи» не только по названию. Ворон, герой этого стихотворения, в Библии — символ нераскаявшегося грешника, а в сказке он традиционно приносит мертвой и живой воды для оживления богатыря. У Бунина он занят, как и полагается ворону, поеданием падали. Стихотворение напоминает пушкинское переложение шотландской баллады «Ворон к ворону летит…». О шотландском подлиннике пишет М.Новикова: «Вещие птицы-вороны там пируют над телом убитого витязя, расчленяя его на части <…> . Этим они символически воспроизводят реальный ритуал, в ходе которого жертва (животная или человеческая) рассекается, а затем ее части отождествляются с элементами Космоса»[36]. То же самое в стихотворении Бунина: «пьет глазки до донушка, Собирает по косточкам дань». Мотив ворона, таким образом, с древнейших времен связан с мотивом памяти и смерти. В мифе ворон часто выступает медиатором между жизнью и смертью, верхом и низом, иногда считается родовым или фратриальным предком (ср. метафорическую характеристику отца как ворона в бунинском рассказе «Ворон»). И в мифе, и, соответственно, в произведениях Бунина «ворон имеет отчетливую хтоническую характеристику и фигурирует как птица, приносящая несчастье»[37]. Однако в стихотворении Бунина несомненен и акцент на ритуальном, а стало быть, воскрешающем значении ворона, ведь палингенесия (возрождение) немыслима без ритуального спарагмоса (расчленения).
В некоторых произведениях Бунина орнитологический миф содержится эксплицитно, при этом только такой, в котором выявлена связь птицы с памятью (ритуалом) и смертью и/или возрождением. Кроме поэмы «Сапсан», это, к примеру, стихотворения «За гробом», где упоминается египетский «Ястреб-Гор», или «Птица», где «птица» — коранический символ всемогущества Аллаха, по воле которого ожила птица, вылепленная из глины Исой (Иисусом). В сонете «Гальциона» Бунину интересен не просто миф о верности друг другу дочери бога ветра Эола Гальционы и ее возлюбленного Кеика, превращенных в птиц, но и то, что Гальциона (птица зимородок) «была представительницей богини луны, которую чествовали во время двух солнцестояний как богиню Жизни-в-Смерти и Смерти-в-Жизни и которая в начале ноября <…> посылала священного царя на смерть»[38]. У Бунина Гальциона – чайка, в соответствии с мифологической классификацией – птица «шаманская», как и все водоплавающие птицы, т.е. медиаторы между двумя стихиями, следовательно, между жизнью и смертью тоже.
Но вся эта мифологическая диалектика жизни и смерти меркнет перед страшным бунинским приговором Соколу, традиционно символизирующему доблесть и благородство, и все же связанному с загробным миром в египетской мифологии (Птах-Сокар – покровитель мертвых, изображавшийся в виде сокола, сидящего на погребальном холме). Вспомним, что у Толстого «соколиком» был Платон Каратаев, у Бунина же фамилию Соколович носит убийца, к тому же наделенный символическим именем «Адам» (в непостижимом рассказе «Петлистые уши»). «Выродок» («вырождение» у Бунина, впрочем, не всегда является отрицательной характеристикой, как и «волчьи», т.е. «божьи» глаза), этот новый Адам чуть ли не в духе Пугачева пушкинской «Капитанской дочки» проповедует отказ от покаяния и привлекательность кровопролития (у Пушкина в сказке о птицах Пугачев противопоставляет ворона и орла, который, будучи традиционно, как и сокол, положительным символом, с точки зрения Гринева, ничуть не лучше ворона, т.к. «пить живую кровь» равносильно питанию мертвечиной). Здесь есть даже мысль, неоднократно выражавшаяся Буниным в публицистике его, что человечество (Адам) в целом ниже зоологического, и особенно орнитологического населения Земли, никогда не убивающего ради убийства. С фамилией Соколовича соотносится и рассказ «Сокол» (1930), в котором у Бунина, вопреки ожиданиям читателя и традиционной установке на связь Сокола с героическим началом, называется «соколом» тупая и страшная баба, бессмысленно растаскивающая имущество помещичьих усадеб и не знающая, что с награбленным делать (обобщение результатов 1917 года, уничтожения культуры и, как следствие, одичания).
О.Пузырева справедливо замечает, что в цикле «Темные аллеи» «наблюдается постоянная соотнесенность внешности героинь с каким-либо зооморфным образом», например, в «Натали» — в соответствии с «архетипической зооморфной парой», Натали – белая лебедь, Соня – лягушка и летучая мышь[39].
Еще интереснее почти достигающий обобщения «Чистого понедельника» рассказ «Руся», в котором мифологема огненного змия имплицируется в жутковатой детали – неожиданно вбегающий из сада черный петух «в большой огненной короне» пугает влюбленных. Петух в мифологии может породить василиска (последний имеет голову петуха и хвост змеи), но является и спасением от него. Мотив огненного змия и губительной любви получает развитие, как уже было сказано, в «Чистом понедельнике», героиня же его, как и «Руся» в одноименном рассказе, символизирует Россию (имя «Маруся» может быть прочитано на французский лад – как «MaRusse», по версии В. Легради – Г.А.Санто)[40]. В той же работе тонко прослежена символическая антитеза рассказа «журавли» — «ужи» (журавли убивают ужей), выражающаяся даже в палиндромности звукового облика слов (уж-жу). Символическим итогом рассказа, в таком случае, становится образ России, вбирающей в себя святость небесных созданий и низость хтонических существ. Герой же, расставаясь с Русей, символизирует судьбу автора, расставшегося с Россией. Есть и намек на интертекстуальную отсылку к «Войне и миру»: мать Наташи Ростовой — «с восточным типом лица», мать Руси – «с восточной кровью», и, наконец, красота героини «Чистого понедельника» на этом фоне закономерно определяется как «индийская, персидская». Но «восточные» штрихи в рассказе «Руся» подсказывают и прочтение антитезы «журавли» — «ужи» как мифореставрацию (термин С.М.Телегина)[41] борьбы птицы и змия, индийских мифологических существ – Гаруды и Нага. А в древнем Китае один из видов единоборства назывался «схваткой журавля и змеи».
Орнитоморфный код присутствует даже в публицистике Бунина. «Наша судьба вообще уже давно была связана с птицами. Вспомните-ка, в самом деле, каким страшным успехом пользовались у нас «Соколы и вороны», альбатросы, кречеты, «Синяя Птица», «Умирающий Лебедь», «Дикая Утка», «Чайка»!»[42]. Тут Бунин близок к мысли Н.И.Гнедича, который еще в 1825 году, в предисловии к своему переводу «Простонародных песен нынешних греков» выразил поразительное по проницательности суждение, что «ни один из народов, которых словесность нам известна, не употреблял с такой любовью птиц в песнях своих, как русские»[43]. И хотя Бунин касается орнитосемантики, связанной с зарубежной литературой, орнитосемантический код его мышления показателен.
Птица (гоголь, утка, гусь) является наиболее архаическим символом (еще финикийско-египетским) творца и возрождения, поэтому и медиатором, осуществляющим связь между бытием и небытием. Это особенно важно в народных загадках, являющихся реликтовой формой посвятительно-инициационных структур. Связь судьбы с птицами, о которых полушутливо говорит Бунин, — это уж точно знак эсхатологического ожидания. Недаром так высока частота упоминаний о птице (и именно в связи с судьбой поэта) в творчестве другого поэта, в ту же бунинскую эпоху жившего и погубленного в России – О.Мандельштама. А ближайшим предшественником является самый знаменитый образ Руси-птицы-тройки в русской литературе, в финале первого тома поэмы Гоголя (он и сам птица, да еще какая – демиург!). Что же касается обычая гадания по полету птиц, то об этом хорошо сказал Г.Д.Гачев: «Мантика, гадание по полету птиц и их внутренностям – оттого и возможны, что полет птицы есть внутреннее сообщение в мире – едином живом существе. Ведь нам же понятно, когда рука указательным перстом направляет наш ум на что-то. То же самое полет птицы есть такой же указующий перст природы»[44].
Указующий перст судьбы сказался в том, что стихотворение Бунина «Не видно птиц…» понравилось Толстому, еще ничего о существовании такого поэта не знавшему. Почему-то именно стихотворение, начинавшееся упоминанием о птицах, должно было открыть Толстому Бунина, хотя Толстой тогда фамилии поэта не запомнил.
Птицы, бабочки, пчелы – метафоры души в поэзии с незапамятных времен. «Птица небесная» — душа человеческая в Евангелии, «питание» ее – служение Богу. На этой новозаветной символике, такой важной в «Капитанской дочке» А.С.Пушкина, закодированы сцены умирания Андрея Болконского в «Войне и мире» Л.Н.Толстого[45]. Сверчок, чье веселое стрекотание слышит тяжело больной князь Андрей в Мытищах, — древний мифопоэтический символ покидающей тело души, такова же и символическая функция цикад, таких заметных в качестве лейтмотива творчества Бунина. Т.М.Бонами подчеркивает роль синэстетизма в поэтике Бунина[46]. В русле этих наблюдений добавим, что неумолкающее звучание цикад – звуковой образ напоминания о смерти, вернее будет даже сказать «чувства неотвратимости смерти» в произведениях Бунина.
Мифологема пчелы, такая значимая творчестве Толстого и Фета, присутствует и в произведениях Бунина и имеет, в общем, ту же семантику, что и птица-душа, с поправкой только на античные, зафиксированные у Платона представления о пчеле как об образе поэта. Поэтому пчелы («шмели») и «колосья» репрезентируют самого поэта перед судом Господа в стихотворении «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…». Колосья – потому что отсылают к мифологическому мотиву «мучения злаков» как метафоры смерти и перевоплощения (ср. балладу Р.Бернса «Джон Ячменное Зерно»).
Если Бунин отождествлял себя с птицей, то ведь и у Толстого в записной книжке есть запись о себе как о птице и вообще целая орнитотипология характеров. «Есть люди мира, тяжелые, без крыл. Они внизу возятся. <…> Есть люди, равномерно отращивающие себе крылья и медленно поднимающиеся и взлетающие. Монахи. Есть легкие люди, воскрыленные, поднимающиеся слегка от тесноты и опять спускающиеся – хорошие идеалисты. Есть с большими, сильными крыльями, для похоти спускающиеся в толпу и ломающие крылья. Таков я. Потом бьется с сломанным крылом, вспорхнет сильно и упадет. Заживут крылья, воспарит высоко», — записывает Толстой 28 октября 1879 года. Запись особенно важная, 28 число Толстой считал для себя знаменательным[47]. А в «Исповеди» Толстого человек сравнивается с выпавшим из гнезда птенцом. Смерть — уход из этого мира в вечность – возвращение в гнездо, радостное для временно покидавшего это общее всем убежище.
А.А.Фет свою веру называл «журавлиной». Толстой и Бунин, говоря словами современного исследователя, вырабатывали «из разных религий свою собственную религиозную теорию»[48]. И очень большое место занимал и у того, и у другого образ птицы – той, которая в Евангелии названа «птица небесная» и о которой размышляет князь Андрей перед смертью. У Бунина словосочетание «птицы небесные» встречается как название одноименного рассказа, в рассказе «Беден бес» и в «Розе Иерихона», причем понимается в толстовском духе – как «освобожденная» душа.
В «Войне и мире» предсмертные размышления князя Андрея играют роль отчасти психофизиологическую. Толстой воссоздает в них свой вариант почти даосской «внутренней алхимии», медитативной практики «освобождения от трупа» (не исключено, что в названии бунинского трактата «Освобождение Толстого» слово «освобождение» несет и этот смысл). Превращение Болконского в «птицу небесную» убедительно доказано в работе Б.Бермана. Добавим, что в «Розе Мира» Д.Андреева герой Толстого назван существом из мира «даймонов», крылатых, как и птицы, вестников. Даосская ода, разрабатывающая медитативную практику «освобождения от трупа», называется «Птица смерти» (168 г. до н.э., автор – поэт и мыслитель Цзя И). О христианском содержании концепта «птица небесная» (христианская душа) хорошо сказано у Новиковой: «Ведь и она после смерти человека улетает «в дальние страны» загробья. И она обитает в небесном мире, принося его в мир земной. И она есть «залог» и частица бессмертия в смертном существовании человека»[49].
Память, о которой мы уже говорили в связи с толстовской и бунинской концепцией Танатоса, – важная составляющая внутренней алхимии. Еще раз напомним, как удивительна память птиц, находящих дорогу к дому за сотни километров. Удивителен и сказочно-мифологический мотив языка птиц. Проповедь Франциска птицам всегда умиляла Толстого. Почему же птицам присущ какой-то особый язык? Язык птиц понимали герои – победители дракона. По Р. Генону, понимание языка птиц – «прерогатива высокого посвящения». «Победа над драконом своим следствием имеет тотчас же даруемое бессмертие, символизируемое каким-либо предметом, доступ к которому сторожил дракон. А это стяжание бессмертия по сути своей подразумевает воссоединение с центром человеческого состояния, то есть с точкой, откуда устанавливается связь с высшими уровнями бытия. Именно эта связь олицетворяется способностью понимать язык птиц»[50]. По-видимому, убийство дракона – это тоже символ, и под ним подразумевается победа над злым началом в себе самом. Так, способность понимать язык птиц есть не что иное, как результат очищения души, переход ее в бессмертную сущность, что и происходит с Андреем Болконским в его последние дни на земле.
В неразгаданной еще путевой поэме (или серии очерков, как иногда называют бунинский цикл «Тень птицы»[51]) автор ее стремится проделать в земном, жизненном еще своем пространстве то путешествие души, которое проделывает душа в иномирном бытии, отлетая. Не только на благодать, даруемую тенью птицы Хумай, надеется он. В бунинской поэме упоминаются и Сфинкс, и Феникс, и пирамиды – хранители времени, т.е. наиболее древние из известных человечеству символов вечности. Образ константинопольской синтетической Ая-Софии у Бунина выстроен так, что служит напоминанием о его, Бунина, собственной экуменической религиозной теории. Как отмечает Р.С.Спивак, Бунину в его религиозном чувстве ближе всего был толстовский вариант веры и не «конфессиональная сторона», а «сама древность веры»[52].
Стихотворению «За гробом» Бунин предпослал эпиграф из египетской Книги мертвых. «Я не тушил священного огня». Эта фраза в Книге мертвых соседствует с упоминанием Феникса, символа возрождения. «Я чист.Я чист. Мои чистые жертвоприношения – чистые приношения великого Феникса»[53]. Египетский Феникс, сгорающий и возрождающийся, – прообраз христианской «птицы небесной», как и многие другие христианские концепты, восходящие к древнеегипетским мистериям. Восток – признанная духовная прародина христианства, что и влекло Бунина. Но может быть, впервые в истории человечества в словах Книги мертвых о Фениксе сформулирована идея о том, что преодолеть страх смерти сможет лишь тот, на ком нет греха, тот, кто чист, кто не гасил священного огня. Это и есть та «психотехника умирания», доступная, по Бунину и Толстому, лишь высоким душам, «птицам небесным».
1. Толстой Л.Н. Собр. соч. : В 22 т. М., Художественная литература, 1978-1985. Т.7.С. 227.
[2] См., например, блестящую работу: Шульц С.А. Символический подтекст в пьесе Л.Н.Толстого «Власть тьмы» // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 2001, № 5.
[3] Мальцев Ю.В. Иван Бунин. М., Посев, 1994. Гл. 1.
[4] Элиаде М. Аспекты мифа. М., Академический проект, 2001. С.138
[5] Там же, с.138-139.
[6] Кузнецова Г. Грасский дневник.// Знамя, 1990, № 4, с.177.
[7] Цит. по: Мальцев Ю.В. Иван Бунин. С.8.
[8] Cм.: Peterson D. Russian Gothic: The Deathless Paradoxes of Bunin s «Dry Valley»// Slavic and East European Journal, 1987, V.31, №1.
[9] Колобаева Л.А.Проза И.А.Бунина. М., Издательство Московского университета, 1998. С.12-13.
[10] Цит. по: Мальцев Ю.В. Иван Бунин. С.80.
[11] Степун Ф.А. И.А.Бунин и русская литература. // Бунин И.А. Собр. соч. : В 8 т. Т.1. М., Московский рабочий, 1993. С.16-17.
[12] Лекманов О. «Зачем (-то)»? Лев Толстой в «Чистом понедельнике» Бунина.// Литература. 2005, № 23.
[13] Адамович Г.В. Бунин. Воспоминания.// Знамя, 1988, № 4, с.181.
[14] Мальцев. С.231.
[15] Мальцев. С.342.
[16] Концепция и смысл. СПб., Издательство Санкт-Петербургского университета, 1996. С.291.
[17] Линков В.Я. Мир и человек в творчестве Л.Толстого и И.Бунина. М., Издательство Московского университета,1989. С. 172.
[18] Мальцев. С.305.
[19] Мальцев. С.336.
[20] Мальцев. С.301.
[21] Степун. С.11.
[22] Ильин В.Н. Миросозерцание графа Льва Николаевича Толстого. СПб.,2000.С.259.
[23] Струве П.Б. Статьи о русских писателях. И.А.Бунин // Русская литература, 1992, №3. С.102.
[24] Жолковский А.К. «Ахмат» Бунина, или краткая грамматика желания // Вопросы литературы, 2007,июль-август. С.318.
[25] Толстой Л.Н. Собр. соч. Т.5. С.220.
[26] Бунин И.А. Собр. соч. в 9 т. М.,ТЕРРА –Книжный клуб, 2009. Т.7. С.115.
[27] Кузнецова. С.200.
[28] Бунин. Собр. соч. в 9 т. Т.7.С.105.
[29] Михайлов О.Н. Строгий талант. Иван Бунин. Жизнь. Судьба. Творчество. М., Современник, 1976. С. 159.
[30] Бахрах А.В. Бунин в халате. М., Согласие, 2000. С.61.
[31] Муромцева-Бунина В.Н. Жизнь Бунина. Беседы с памятью. М.,Советский писатель, 1989. С.162.
[32] Муромцева-Бунина. С.42.
[33] Бунин. Собр. соч. в 9 т. Т.8. С.81.
[34] Ветшева Н.Ж. «Опять вы, птички, прилетели…»: орнитологический текст В.А.Жуковского (на материале лирики) // Жуковский и время. Томск, Издательство Томского университета, 2007. С. 113.
[35] Грейвс Р. Белая богиня. М., Прогресс-Традиция, 1999. С. 265.
[36] Новикова М. Пушкинский Космос. М., Наследие, 1995. С.347.
[37] Мифы народов мира. Энциклопедия. Т.1. М., Советская энциклопедия, 1991. С. 246.
[38] Грейвс. С.210.
[39] Пузырева О.Г. Религиозно-философское значение зооморфной символики в произведениях И.А.Бунина // Русская литература за рубежом. М., ГИРЯ, 2005. С.77. См. также: Пузырева О.Г. «Живые символы» в образном мире И.А.Бунина. М., ГИРЯ, 2001.
[40] Легради В. – Санто Г.А. «Маруся» или «MaRusse»? (Наблюдения над рассказом И.Бунина «Руся») // DissertationesSlavicae. XV. Szeged, 1982. С.129-135.
[41] См.: Телегин С.М. Ступени мифореставрации. Из лекций по теории литературы. М., Компания Спутник,2006; Телегин С.М. Словарь мифологических терминов.М., Издательство УРАО, 2004.
[42] Цит. по: Бабореко А.К. Бунин: Жизнеописание. М., Молодая гвардия, 2004.С.398.
[43] Гнедич Н.И. Сочинения. Т.1. СПб.,1884. С.234.
[44] Гачев Г.Д. Национальные образы мира. М., Советский писатель, 1988. С.324.
[45] См.: Берман Б.И. Сокровенный Толстой. М.,1992; Полтавец Е.Ю. «Война и мир» Л.Н.Толстого на уроках литературы.М., Дрофа, 2005.
[46] Бонами Т.М. К поэтике рассказов И.А.Бунина (Функциональное значение звуковых и музыкальных образов) // И.А.Бунин и русская литература ХХ века. М., Наследие, 1995. С.85-94.
[47] Толстой Л.Н. Собр. соч. Т.21. С.272.
[48] Карпов И.П. Религиозность в условиях страстного сознания // Евангельский текст в русской литературе ХVIII-ХХ веков.Петрозаводск, Издательство Петрозаводского университета,1994. С.344.
[49] Новикова. С.262.
[50] Генон Р. Символы священной науки. М., Беловодье, 2002. С.80.
[51] Н.В.Пращерук предлагает концептуальное определение жанра «Тени птицы»: книга. Это определение вызывает в памяти авторское обозначение жанра «Войны и мира» с явной отсылкой к Библии: Библия – по-древнегречески «книги». (Пращерук Н.В. «Тень птицы» И.Бунина. Концептуализация времени и проблема жанра.// И.А.Бунин и русская культура ХIХ-ХХ веков. Воронеж, Квадрат, 1995. С.56-58).
[52] Спивак Р.С. И.А.Бунин в интерпретации русского литературоведения 1990-х годов. // Литературоведение на пороге ХХI века. М., Рандеву- АМ, 1998. С.464.
[53] Книга мертвых. М., Эксмо,2006. С.261.