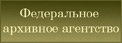О НОВОЗАВЕТНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ ВЕТХОЗАВЕТНОЙ ТЕМЫ В ИСТОРИОСОФИИ И. А. БУНИНА
Не только чуткость к различным религиозным системам и умение проживать и воспроизводить в своем опыте их характерное звучание отличает Бунина с его глубочайшим интересом к миру Востока как колыбели собственной, христианской системы ценностей, но и опыт мыслителя, историософа и отчасти богослова, открывающего значение предшествующих религиозных эпох в их связи с настоящим и через настоящее.
О новозаветной перспективе ветхозаветной темы в историософии И. А. Бунина // Орловский текст российской словесности: творческое наследие И. А. Бунина. Выпуск 2. Материалы всероссийской научной конференции. Орел, 2010.
Т. А. Кошемчук (Санкт-Петербург)
Тема ветхозаветной духовности и стилистики в творчестве И. А. Бунина, разработанная В. А. Котельниковым, может быть продолжена и развита – акцентированием некоторых существенных ее аспектов, вплоть до выявления напряженнейших, даже трагических ее тонов, и далее сверхсмысла темы, ее исхода из мрака в свет – именно так дается в бунинской религиозной историософии.
Не только чуткость к различным религиозным системам и умение проживать и воспроизводить в своем опыте их характерное звучание отличает Бунина с его глубочайшим интересом к миру Востока как колыбели собственной, христианской системы ценностей, но и опыт мыслителя, историософа и отчасти богослова, открывающего значение предшествующих религиозных эпох в их связи с настоящим и через настоящее. Уникальность Бунина-мыслителя, обращающегося к миру религии через художественное, поэтическое его преломление, определяется, прежде всего, его глубинной, корневой, врожденной, генетической связью с русской христианской традицией – этот опыт глубинной причастности становится для Бунина предметом осмысления. С другой стороны, не традиция как таковая в центре его духовной жизни, не ее проживание или осмысление на философских путях определяет его религиозность. Но, скорее, опыт собственного, индивидуального, даже субъективного и поэтического проникновения в мир религиозных систем и собственной традиции. Именно собственное «я», «я» художника и поэта, проживающее в самом себе и переживающее религию, как и весь мир в его целом и в каждой его сущности – первично для Бунина.
В высшей степени показательно это в бунинском отношении к Святой Земле. Бунин пишет о ней не как паломник (хотя и может назвать себя паломником), его путевые размышления и созерцания, его «поэмы», ей посвященные, есть новая и небывалая ранее страница в паломнической русской теме. Истоки их – не в почитании святынь и переживании связанных с ними событий ветхозаветной и новозаветной истории, но в глубине созерцания земли, палестинского ландшафта, проникновенного собственного созерцания камней, пустыни, гор, цветов. Из осмысления того отзвука, который рождается не из приобщения к общему, общехристианскому, но из иного импульса, из индивидуального «я», как бы заново, из себя самого открывающего ветхозаветное и новозаветное в окружающем мире рождается бунинская религиозная философия и историософия.
Тем знаменательней связь и созвучие этого художнического, скорее эстетического, чем религиозного переживания с православной традицией. Из индивидульного и субъективного рождается и преклонение перед христианскими святынями, перед самой Святой Землей, в камнях и водах которой прежде всего обретается связь с земной жизнью Христа. Отсюда и самобытность бунинской ветхозаветной темы, рожденной из созерцания, из тонких душевных ощущений, из погружения в дух палестинской земли, сохранившей следы ветхозаветной истории.
Природное распахивается в историческое, влечет к нему мысль неудержимо, и ветхозаветная тема в бунинской созерцательной мысли видится неизбежно, в созвучии с самим строем этой земли, в христианской перспективе, и вне ее просто немыслима – как невозможно отделить и в современной Святой Земле ветхое от нового, они трагически сталкиваются на каждом шагу, в каждом ее фрагменте, и все говорит о ветхости ветхого и неуничтожимости нового.
«Се, оставляется вам дом ваш пуст» [1] – эти евангельские слова заново переживаются Буниным в его путевых впечатлениях во всей подлинности их визуальной данной истинности, и они задают основную тональность в звучании ветхозаветной темы.
Статья В. А. Котельникова в ее расширенной версии завершается цитатой из «Камня» (1908) о раздающихся у Стены Плача выкриках, в том числе о «расцветающем жезле Иесея»: «Но уже никогда, никогда не расцвести ему снова ветхозаветными цветами! Разве может забыть земля о том незабвенном утре две тысячи лет тому назад, когда вошел отрок в Назаретскую синагогу?» [2]. Отсюда и стоит продолжить не только в выявлении аспектов бунинского мировоззрения, созвучных Ветхому Завету, но в осмыслении своеобразия темы ветхозаветного мира, который видится Буниным в его завершенности, просматривается сквозь идею конца, окончательной исчерпанности – в перспективе появления христианства.
Первое. Бунинское горестное «никогда», вообще переживание ветхозаветного мира, Палестины и иудейских судеб звучит в христианской тональности: как и подобает человеку христианской культуры, Бунин, размышляя, например, о Синайских заповедях, выявляет их вечный смысл, говоря в «Водах многих» (1911–1926) не о ветхозаветном Израиле, но обо всем человечестве в его истории, причем в эмоциональной окраске и стилистике, не свойственных Ветхому Завету. Синай есть «незыблемый маяк человечества»: «казалось, душа всего человечества, душа тысячелетий была со мной и во мне», – эти мысли рождаются в безлюдной пустыне вокруг Синая, и оркестрованы они чувствами умиления, трогательной радости: Синай объединяет всех людей, снимает преграды национальности, индивидуальности – в этом «незыблемо-священный» смысл его «простых», «пастушеских», «бедных», «младенческих» законов. И в свете грядущего христианства Бунин видит, в своем благоговейном чувстве, в синайских заповедях не высшую мудрость, но именно детство человечества.
Второе. В круге бунинских историософских размышлений жестокость ветхозаветной истории – постоянная тема.
«В мире нет страны с более сложным и кровавым прошлым. В списках древних царств нет, кажется, царства, не предавшего Иудею легендарным бедствиям. Но в Ветхом завете Иудея все же была частью исторического мира. В Новом она стала такою пустошью, засеянной костями, что могла сравниться лишь с Полем Мертвых в страшном сне Иезекииля…» («Иудея», 1908). С этим связана и мысль о конце истории Иудеи: здесь отличие ее от иных земных царств, которые также разрушались, но продолжали свою историю. В Иудее же после явления Христа продолжение кажется невозможным, причина этого – богооставленность этой страны: «Тучи сгустились, спустились над храмом Соломона, и, в гробовом молчании, сами собой распахнулись бронзовые двери его, выпуская воинство Иеговы. "Мы уходим!" – сказал Иудее неведомый голос» («Иудея»). Жестокость есть неотъемлемая черта самого иудейского древнего мира, и возмездие за нее было – «чудовищно»: «Оно было исполнением пророчеств. Да замрет в Иудее "голос торжества и голос веселия, голос жениха и голос невесты". Да не останется камня на камне от великого, стократ погибавшего в крови и пламени Города Мира. Ибо на долгий, долгий срок земля его, вся пропитанная кровью, должна была стать "терном и волчцами"». И далее: «Жить обычной жизнью после всего того страшного, что совершилось над ней, Иудея не могла. Долгий отдых нужен был ей. Пусть исчезнет с лица ее всякая память о прошлом. Пусть истлеют несметные кости, покроются маком могилы» («Иудея») – так заканчивается историческое бытие страны, ее возвращением к дням патриархов.
Третье: трагической Бунин видит судьбу Иудеи, его главное и потрясающее переживание во время путешествия по Палестине – это именно впечатление смерти. Смерть есть прекращение исторического бытия, исчерпавшего свой смысл с явлением Христа и Его отвержением: «…только веянье Смерти над пустырями и царскими гробницами, подземными тайниками, рвами и оврагами, полными пещер да костей всех племен и народов. <…> "Се оставляется вам дом сей пуст"» – смерть предопределена этими словами Христа, обращенным к Иерусалиму; «На Сионе за гробницей Давида видел я провалившуюся могилу, густо заросшую маком. Вся Иудея – как эта могила» («Иудея»). Мак как кровь и камни как кости есть постоянные образы бунинских описаний этой страны в ее исторической смерти: она «родит теперь больше всего дикого маку. Точно фиолетово-красные озера стоят в долинах среди гор, усыпанных голышами. Точно сперва кровавый, а потом каменный ливень прошел по этой стране...» («Иудея»). В стихотворении «Иерусалим» (1907) о мертвой земле, покрытой камнями и маками, о смерти как судьбе ее до Второго Пришествия словами пророка Иеремии, сказано: «Да родит край отцов только камень и мак! // Да исчахнет в нем всяческий злак! // Да пребудет он гол, иссушен, нелюдим – // До прихода Реченного им!»
Четвертое: смерть есть не только историческая, но прежде всего духовная исчерпанность ветхозаветного бытия, более – его демонизация. Для христианского сознания это принципиальная позиция: ветхое кончилось навсегда, как и язычество, возрождение невозможно – никогда. Ибо в мир пришел Христос. Его явление – ответ всему ушедшему в прошлое («Шеол», 1909). Страна же, Его не принявшая, есть царство дьявола – это еще один лейтмотив страннических впечатлений Бунина, в особенности он связан с пустыней: «…сама пустыня, ее мертвый дьвольский пейзаж, обитель дьявола, гора Сорокодневная, место Искушений». Иерихон предстает как «царство дьявола»: «И бледным дымом спустилось и легло облако у подножия горы Сорокадневной, чернеющей среди звезд своей вершиной… "Отойди от меня, Сатана"» («Пустыня дьявола», 1909). В «Стране содомской» (1909) в особенности речь идет о царстве дьявола, о «месте греха, искушений», «сладости страсти и порока», о месте, заклятом пророческими проклятиями. Далее в этом временном потоке, в перечислении исторических образов – христианство, множащиеся в пустыне обители и новый поворот: «избиенные иноки», финальное опустошение: «…опять, опять воцаряется он, древний бог пустыни!» – уничтожение христианства возвращает царство дьявола.
Пятое: великий смысл всей ветхозаветной истории, вообще высшая точка истории – явление Богочеловека. Не раз Бунин, размышляя об истории восточных стран, погружаясь в поток времени, выстраивает ряды различных исчезнувших культур и религий, венчающихся неизменно – итоговым христианством, как в приведенном выше фрагменте. Так и о пустыне: «Страшное прошлое» пустыни: ханаанские города, Моав, место смерти Моисея, иерихонские бальзамы Клеопатры, термы Ирода – Искушения Иисуса от дьявола… («Страна содомская»). Последним в ряду оказывается событие Нового Завета. То же в рассказе «Свет Зодиака» (1907) о пирамидах: служение Изиде, затем Иегове, Солон, Геродот, Платон, там же «жила сама Богоматерь с Младенцем…» – весь исторический поток древней жизни сводится к своему исходу и оправданию – к пришествию Христа.
В стихах названные темы звучат многократно. Стихотворение «На Исходе» (1916) обращается к концу ветхозаветного периода, говорит о лжепророках и лже-Мессиях, являвшихся на его исходе, когда явление Мессии истинного еще далеко: «Звезда, что будет на востоке, // Еще среди глубокой тьмы». Закатный ветхозаветный мир есть царство Сатаны: «Но на исходе сроки ваши: // Вновь проклят старый мир – и вновь // Пьет сатана из полной чаши // Идоложертвенную кровь».
Стихи вмещают и мысль о значении «ветхого», о единственном его смысле как чаянии христианства, отменяющего его: так, в стихотворении «Новый Завет» (1914) Господь, обращаясь к Иосифу, произносит: «Я расторг с жестокими завет», – ведь и пророки и сам Господь «оплакали» Его «древний дом» (на эту тему у Бунина ряд стихотворений), и Иосифу повелевается «всей земле» явить Господне благоволенье. В стихотворении «Бегство в Египет» (1915) бегство от зла и жестокости показано на фоне русских просторов («По лесам бежала Божья Мать, // Куньей шубкой запахнув Младенца…»), и в конце лишь возвращается иудейский контекст, образ царя Ирода, тема Божьего гнева на гонящих и распинающих: «И огнем вставал за лесом меч // Ангела, летевшего к Сиону, // К золотому Иродову трону, // Чтоб главу на Ироде отсечь».
Шестое. Рождение Иисуса, Его жизнь – эта кульминация истории – описывается у Бунина в тонах радости и света, противопоставленных ветхозаветным тонам ужаса, мрака, смерти, страха. Так, о пути по Иерусалиму в «Камне» (1908) говорится: «Все сильнее и радостнее чувствуется близость к какому-то далекому радостному утру дней Иисуса…» – к «величайшей святыне мира». «Сладостным ветром было и пришествие в мир Иисуса. Но лежала "секира при корне дерева"»; «есть ли другая земля, где бы сочеталось столько дорогих для человеческого сердца воспоминаний?» («Пустыня дьявола») Бунин перечисляет: погребальная пещера Богоматери, где почила «простая женщина из Назарета, венчанная высшей славой – земной и небесной», долина Иосафата, место грядущего Страшного Суда, Вифания с могилой Лазаря: «И живым кажется образ Иисуса. Сколько раз подходил Он сюда…» («Пустыня дьявола»). В рассказе «Геннисарет» (1911) детство и юность Иисуса в центре внимания, и этот фрагмент странствий можно цитировать подряд, ибо он весь пронизан теплым чувством реальности Иисуса. В Вифлееме переживается «сладчайшая из земных поэм – поэма Его рождения», расцвеченная «легендами, прекраснее которых нет на земле», в Назарете – детство Иисуса: «Ветхие пергаменты Назарета остались во всей своей древней простоте. Но скудны и чуть видны письмена, уцелевшие на них! И великую грусть и нежность оставляет в сердце Назарет». В нем жива «легенда, может быть самая прекрасная, самая трогательная: без огня, по бедности родителей, засыпал Божественный Младенец; мать сидела у его постельки, тихо заговаривая, убаюкивая его…». Молодость Иисуса – Геннисарет, «…где прошла вся молодость Его, все годы благовествования, все те дни, незабвенные до скончания века, для них же и был Он в мире…» («Геннисарет»). Переживанием земной жизни Иисуса пронизан и рассказ «Иудея»: «…вот она, подлинная Палестина древних варваров, земных дней Христа!» Иерусалим: «Боже, неужели это правда, что вот именно здесь был распят Иисус? И неужели это над Его гробом блещет теперь в полумраке византийских сводов и подземелий жуткое великолепие несметных лампад…»
Те же темы Христова присутствия на Святой Земле многократно варьируются в стихах. Глубоким и теплым чувством преклонения перед Божьей Матерью с Младенцем, то есть перед событием Боговоплощения, наполнено стихотворение «На пути из Назарета» (1912), все это большое стихотворение есть дивный гимн Богородице: «На пути из Назарета // Встретил я Святую Деву. // Каменистая синела // Самария вкруг меня, // Каменистая долина // Шла по ней, а по долине // Семенил ушастый ослик…». В этой бытовой картинке – ожившей евангельской сцене бегства в Египет – поэт видит Божью Матерь с младенцем: «Как спокойно поднялися // Аравийские ресницы // Над глубоким теплым мраком, // Что сиял в ее очах…». В стихотворении «Новый храм» (1907) описывается радость иконописцев, написавших Христа, которым «…казалось, что под эти // Простые песни вспомнит Он // Порог на солнце в Назарете, // Верстак и кубовый хитон» – что Господь вспомнит дорогие Ему дни на земле. Страшный финал евангельской истории не раз прочувствован в стихах поэта, так, в стихотворении «Вход в Иерусалим» (1922): «И Ты, всеблагой, // Свете тихий вечерний,// Ты грядешь посреди обманувшейся черни, // Преклоняя свой горестный взор, // Ты вступаешь на кротком осляти // В роковые врата – на позор, // На проклятье!»
Седьмое. Названные выше ключевые аспекты бунинских размышлений даны и в прозе, и в стихах, но одна особенная тема прежде всего дышит именно в стихах, переживается именно в лирической стихии. Тема ветхозаветного Бога не случайно воплощается лишь как поэтическое богословие. Она, взятая изолированно, воспринятая как тема Бога вообще, и дала основание И. А. Ильину говорить о безблагодатности бунинского Бога [3]. Но в цитированных им строках речь идет именно о ветхозаветном божестве. Более того, – и здесь требуется от читателя особенно глубокое и точное проникновение в мысль поэта – дана эта тема не в единственном тоне безблагодатности, а в двух тональностях, темной и светлой, в двух ликах: Бога-Творца, как он дан в Ветхом Завете (грозный и страшный лик ветхозаветного Яхве), и Отчей творческой ипостаси в новозаветном опыте богопознания, то есть Бога-Отца (благой лик Творца мира), мыслимого так лишь при явленности Бога-Сына.
Эта напряженная двойственность Божества осмыслена Буниным в ряде стихотворений. Так, в стихотворении «Ночь и день» (1901) обратно тютчевскому «День и ночь» не только заглавием, но и более яркой акцентуацией дневного, с ночью, ночным мраком связано чтение Библии, с днем – созерцание видимого, сотворенного, прекрасного мира. Ночью «старая книга», ветхозаветное в ней чувство тщеты и повторяемости под солнцем всего земного есть проявление страшного, «ночного» лика невидимого, вне земли, Божества: «Все мимолетно… Вечен лишь Бог. Он в ночной неземной тишине». Прекрасный же дневной мир, Божье творение, говорит о новом – он несет в себе благую весть о радости: «Птицы о радости вечного Бога поют». Здесь две грани души, мира, Божества приняты, и каждой отведен свой час.
Бог-Творец дан здесь у Бунина в двух ликах: не только безвидный, невидимый ночной Бог, но и проявленный в радости творения. Согласно опыту Троического богословия, все три Лица Троицы участвовали в творении мира, и Бог, явленный в созданном мире, рождает теплое и радостное чувство благодарности, многократно выраженное в поэзии и прозе Бунина [4]. Но для бунинской поэзии характерно и иное: Божество ночное, ветхое, темное и грозное – в этой акцентуации звучит нечто чрезвычайно характерное для бунинского переживания мира, нечто самобытное и загадочное. Это Бог неведомый – Бог до Творения мира, довременная безымянная бездна. Этот ветхозаветный Бог, «ветхий днями», переживается в безблагодатных ликах природного бытия – как ужас для человеческой мысли. Он переживается в тональности мрака и страха – как глухая, мертвая, холодная, тяжелая божественная вечность. Стихотворение «Звезды ночи осенней…» (1901), воплощает переживание запредельной божественной вечности в холоде осенней ночи, в угрюмом мерцании звезд, она оркеструется рядом эпитетов: в мире – угрюмо, грустно, тускло, глухо, темно, мертво, смутно. И она есть прозрение «…в бездну Вечных Ночей, в запредельное небо, // Где ни скорби, ни радости нет», и звезды говорят «…о предвечной печали // Запредельных Ночей». Темный лик Бога, отзываясь в душе поэта холодным и печальным вдохновеньем, связывается с тусклыми звездами в стихотворении «Как много звезд на тусклой синеве…» (1917) о молчании моря: «Весь мир молчит – затем, // Что в мире Бог – а Бог от века нем», усиливаясь повтором мысли о Божьей, до явленности Слова, немоте в немом безжизненной мире: «…Да, в мире жизни нет. // Есть только Бог над мертвыми огнями, // Есть только Он, несметный, ветхий днями». То же в стихотворении «Мелькают дали, черные, слепые…» (1912) о «мертвом лике» океана: «Бог, в довременный хаос погруженный, // Мрак сотрясает ропотом своим». Эти нечастые, но весьма характерные ноты в бунинской поэзии кульминируют в стихотворении «Сатурн» (1907): «Воистину, зловещи и жестоки // Твои дела, Творец!» – здесь звучит предельно ярко та интонация жесткости, которая у Бунина соотнесена с грозным и темным ветхозаветным Богом, сквозящим в морской безбрежности, мрачной ночи, в бледных звездах, в нерушимой тишине: жесткость, холод, темнота, ужас, жуть, мертвость, немота. Именно из визуально переживаемых безблагодатных природных картин рождается тема – как личное грозное и потрясающее созерцание.
Дневной Бог у Бунина явлен в светоносности творения, в каждой его сущности, и к Нему направлен свет благодарности: «А Бог был ясен, радостен и прост: // Он в ветре был, в моей душе бездомной…» («Бог», 1908) – этот светлый тон звучит в стихах постоянно на протяжении всего творчества. Но только в Распятии Бог – здесь Бунин созвучен христианской традиции – обретает полноту проявления, благодатные и смиренные черты, которые навсегда роднят человека с Сыном и через Сына примиряют с Отцом. Так, в стихотворении «Свет» (1916) отмечена эта связь – устремленность Отчей ипостаси к Своей выраженности в Сыновней жертве: в храме «…черный запрестольный крест // Воздвиг свои тяжелые объятья, // Где таинство Сыновнего Распятья // Сам Бог-Отец незримо сторожит. // Есть некий свет, что тьма не сокрушит».
Как ветхозаветный мир устремлен к своему единственному смыслу – Христу, так и Бог-Творец, Отчая ипостась, – к Своей явленности в Сыне. И именно новозаветный свет прежде всего и притягивает Бунина к Святой Земле: «…к лилиям Божьей земли, // К Палестине // Потянуло меня…» («Капри», 1916). Притягательная сила Палестины – не грозное ветхозаветное и не страшное историческое начало, но новозаветная простота и красота.
Итак, по мысли Бунина, ветхозаветное иудейство своей единственной перспективой имеет именно Христа, в нем обретает свою истинную цель и свой смысл – в его обращенности к ожидаемому Христу, в созвучии с пророческими писаниями, как они всегда воспринимались в христианском мире. Ветхозаветный мир и завершается с осуществлением ожидания. Эта ключевая мысль вынашивается Буниным в его глубоком и долгом опыте проникновения в чужие культуры и религии, на путях его душевной и духовной отзывчивости – всеотзывчивости, которую завещал всем русским Достоевский. «Ветхозаветность» у поэта имеет очевидный христианский сверхсмысл. Так, самое хвалебное «ветхозаветное» стихотворение «Тора» (1914) о Моисее обращено в итоге к «новому», принятому нами христианству, в котором сохраняется весь свет и огонь ветхого: «Не от него ль зажгли мы пламенники наши // Ни света, ни огня не уменьшая в нем?»
[1] Матф.23:38; Лук.13:35.
[2] Котельников В. А. «Что есть истина?» Литературные версии критического идеализма. СПб, изд-во «Пушкинский Дом», 2010. С. 252–266.
[3] См.: Ильин И. А. О тьме и просветлении. Книга художественной критики. Бунин – Ремизов – Шмелев // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. М., 1996. Т. 6. Кн. 1. С. 263.
[4] См. подробнее: Кошемчук Т. А. О христианской доминате в лирике И. А. Бунина // Кошемчук Т. А. Русская литература в православном контексте. СПб, Наука, 2009.С. 233–277.