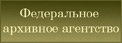«Номадный» и «автохтонный» аспекты в восприятии И.А. Буниным творчества Л.Н. Толстого.
Оппозиция «номадного» и «автохтонного» является ключевой, организующей все творчество И.А. Бунина, но она отнюдь не сводится к противопоставлению «страннического» и «оседлого». Она тесно связана с таким важным концептом бунинского творчества, как «память», и представляет собой способ освоения и понимания мира.
Оппозиция «номадного» и «автохтонного» является ключевой, организующей все творчество И.А.Бунина, но она отнюдь не сводится к противопоставлению «страннического» и «оседлого». Она тесно связана с таким важным концептом бунинского творчества, как «память», и представляет собой способ освоения и понимания мира. Было бы ошибкой соединять «номадное» со странствиями писателя или с периодом эмиграции, а «автохтонное» -- с его жизнью и творчеством на родине, т.к. рассматриваемое противопоставление характерно уже для ранних произведений Бунина. В интересах максимальной терминологической точности следует отметить, что слово «номад», встречающееся в поэзии Бунина и отсылающее к эллинистическим представлениям, для Бунина означало не просто «кочевник», «странник», «скиталец». «Номадное» в понимании Бунина не может рассматриваться как исключительно «экзотическое» или «ориенталистское». Это понятие для Бунина относится не столько к перемещению в земных пределах времени и пространства, сколько к «космическому», «вечному», «вселенскому». В стихотворении Бунина «Храм солнца» (1907), написанном терцинами, отсылающими к великому неземному странничеству Данте, стоянка «первого Номада» -- знак начала истории человечества. «Первый Номад» -- предок человечества, кочевавший по просторам Вселенной, а «колоннада» храма Солнца, напоминающая мегалитический кромлех, -- дань космической символике. О колоннаде говорит Бунин: «В блаженный мир ведут ее врата» -- в мир вечной Вселенной, откуда пришел прародитель – «первый Номад».
Паломнические поэзия и проза Бунина с их ярким экуменизмом отнюдь не сводятся ни к поискам христианского или мусульманского рая, ни к зарисовкам экзотических местностей. Это поиск духовной прародины, общих для человечества истоков и молитвенный экстаз («мекам», как сказано в одноименном стихотворении Бунина) преклонения перед открывающейся глубиной памяти. Бунинское странничество должно быть понято не только как земное, но и космическое, поиск космической прародины человечества. В рассказе «На Донце» есть слова: «…Невнятный голос природы, говорящий нам, что не на земле наша родина»[1]. Человечество в целом предстает как кочевник, номад в бесконечных мирах вселенной. Да и вечное скитальчество Агасфера представлялось Бунину не наказанием, а завидным уделом.
Первым из мыслителей, рассматривавших гипотезу палеоконтакта (говоря современным языком) как гипотезу внеземного происхождения человечества, был, наверное, древнегреческий натурфилософ Анаксагор, обосновавший учение о расширяющейся Вселенной и ставший инициатом в Египте. Когда соотечественники упрекали Анаксагора, отошедшего от общественных забот и увлекшегося астрономией, что ему нет дела до отечества, он отвечал, показывая на небо, что ему очень даже есть дело до отечества.[2] Анаксагор не стал героем бунинской лирики, но Джордано Бруно, развивавший идеи множественности населенных миров во Вселенной, удостаивается у Бунина восторженного гимна («Джордано Бруно»).
«Автохтонное» -- не бунинский термин, но он представляется нам наиболее адекватным для наименования второго члена оппозиции в общем эллинистическом ключе. Если человечество пришло на планету Земля с далеких звезд, то оно – автохтон не Земли, а всей Вселенной, как ни парадоксально это звучит с точки зрения этимологии слова «автохтон». У Бунина человек есть и автохтон как уроженец и житель определенной земной местности, и в то же время космический обитатель как уроженец и житель Вселенной. В этом Бунин – ученик Льва Толстого, подарившего своим любимым героям память о небе и умение его созерцать. В 18 лет Лев Толстой сформулировал основу своего мироощущения и творчества: «…Образуй твой разум так, чтобы он был сообразен с целым, с источником всего, а не с частью, с обществом людей; тогда твой разум сольется в одно с этим целым, и тогда общество, как часть, не будет иметь влияния на тебя» (46, 4). Трактат Бунина «Освобождение Толстого» весь проникнут этим космически-номадным смыслом. «Личность, по Толстому, способна противостоять и преодолевать влияние общества (государства, наличной цивилизации) потому и в той мере, в какой она ощущает себя итогом не одного социально-исторического, но и бесконечного природно-космического процесса… Окружающее человека космическое целое включает в себя и бесчисленное множество повседневных, ежечасных и ежеминутных впечатлений индивида, обыкновенно ни обществом, ни литературой не учитываемых, но способных глубочайшим образом воздействовать на человеческую душу», -- пишет В.А.Недзвецкий[3]. В этом смысле герой бунинской новеллистики и «Жизни Арсеньева» чрезвычайно близок романному герою Л.Н. Толстого, а личность самого Толстого в качестве героя знаменитого бунинского трактата «Освобождение Толстого» есть феномен необыкновенный. Толстой у Бунина – пример такого космически обусловленного сознания, наделенного к тому же «сверхпамятью» не только рода, но и космического странника.
По словам В.П.Катаева, Бунин считал, что «у каждого подлинного художника, независимо от национальности, должна быть свободная мировая, общечеловеческая душа…»[4]. «В этом смысле я, если хотите, интернационален», -- говорил Бунин[5]. Катаев знал Бунина еще до эмиграции, А.В.Бахрах оставил воспоминания о Бунине эмигрантского периода: «Оседлость была чужда его природе, а создание уютного жилища не было для него необходимостью»[6]. По мнению Бахраха, знаменитая жалоба Бунина «У зверя есть нора, у птицы есть гнездо…» -- не более, чем «поэтическая вольность»; у Бунина никогда не было «локаль-патриотизма», «Россию он носил в себе и никогда не напоказ»[7]. И эта черта Бунина близка диалектике автохтонного и номадного в душе Льва Толстого, с его особым пониманием патриотизма, его чувством к России и страстностью к Ясной Поляне и его же ощущением себя ответственным за судьбы всего мира («Весь мир погибнет, если я остановлюсь», -- писал Толстой в письме А.А.Толстой в 1874 году (62,130).
Даже автопсихологический, что признано всеми исследователями, герой «Жизни Арсеньева» какими-то чертами своего мироощущения близок Л.Толстому. Бунинский герой вспоминает «Детство» и «Отрочество» Толстого и вдруг сознает: «Я родился во вселенной, в бесконечности времени и пространства, где будто бы когда-то образовалась какая-то солнечная система, потом что-то называемое солнцем, потом земля…»[8]. «Я знаю, что это я началось когда-то и вместе с тем я знаю, что это я всегда было. Так что я во времени не могу найти своего настоящего я, буду ли я искать его совсем близко или бесконечно далеко. Я как будто никогда не появлялся, а всегда был и есть и только забыл свою прежнюю жизнь» (36, 407-408), -- писал Толстой. «Рождение никак не есть мое начало, -- говорит Бунин в «Книге моей жизни». – Мое начало и в той непостижимой для меня тьме, в которой я был от зачатия до рождения, и в моем отце, в матери, в дедах, прадедах, пращурах, ибо ведь они тоже я. <…> Столько я жил в воображении чужими и далекими мирами, что мне все кажется, что я был всегда, во веки веков и всюду»[9].
Если лучшие герои Толстого нефеломаны, то Бунин – поэт-астрофил. «Вселенная», «звезды» занимают огромное место в концептосфере писателя. «Как тут не вспомнить современные научные гипотезы о происхождении жизни с иных планет! Не магия ли глубинной прапамяти, а не только сама по себе красота звезд влекла Бунина к ночному небу? – Во всяком случае, в том, что звезды являлись для Бунина символом Тайны Бытия, сомневаться не приходится», -- пишет, например, А.П.Тер-Абрамянц, отмечая бунинское чувство «тайной взаимосвязи» с космосом[10].
Спиритуализм Бунина, не мешавший ему, как и Толстому, быть «тайновидцем плоти» (выражение Д.С.Мережковского о Льве Толстом), сказывался и в интересе Бунина к такому виду странничества души, как реинкарнация. И здесь Бунин сближается с Л.Толстым в его выдвижении на первый план именно этического аспекта и реинкарнации, и генетической памяти. «Нет закона, определяющего, на какой степени восходящего родства наши действительные предки превращаются в мифы», -- пишет В.С.Соловьев[11]. Толстой мифологизировал, даже «воскрешал», по выражению Н.Ф.Федорова, в творчестве своих предков. А.Б.Гольденвейзер приводит в своих воспоминаниях слова Толстого: «Удивительно, как все прошедшее становится мною. Оно во мне, как какая-то сложенная спираль»[12]. «Все прошедшее» -- это «прапамять», если использовать термин Ю.В.Мальцева. Феномен памяти определяется Толстым очень близко к тому, что подразумевал под памятью Бунин. Толстой: «Есть память своя личная, что я сам пережил; есть память рода – что пережили предки и что во мне выражается характером; есть память всемирная, божия – нравственная память того, что я знаю от начала, от которого изшел» (56, 24). Бунин: «И разве не радость чувствовать свою связь, соучастие «с отцы и братии наши, други и сродники», некогда совершавшими это служение? Исповедовали наши древнейшие пращуры учение «о чистом, непрерывном пути Отца всякой жизни», переходящего от смертных родителей к смертным чадам их – жизнью бессмертной, «непрерывной»…»[13].
Бунин придавал огромное значение особой генетической памяти рода Толстых. «О, Толстым есть что вспомнить!»[14], -- восклицает он в очерке «Инония и Китеж», посвященном памяти А.К.Толстого. В «Жизни Арсеньева» герой Бунина ощущает в себе чувство принадлежности к иным странам и древним временам, отмечая свое сходство с А.К.Толстым.
Восприятие А.К.Толстого и А.С.Пушкина автопсихологическим героем близко автору, что явствует из очерка «Инония и Китеж» и статьи Бунина «Думая о Пушкине». Читает Арсеньев и Л.Н.Толстого, однако ни «Освобождение Толстого», ни мемуары Бунина не содержат строк, в которых можно было бы увидеть текстуальную перекличку с арсеньевскими впечатлениями. Общность статьи Бунина о Пушкине и повествования о восприятии творчества Пушкина героем «Жизни Арсеньева» может свидетельствовать о том, что Пушкин воспринимался Буниным безусловно, был столь же достоверным, как собственная жизнь, мать, отец, природа, Россия. Знание о Пушкине открыто всем, универсально, внерационально, вследствие чего оказалось бесспорным и для публицистически-критического очерка-интервью, и для создания художественного образа – воспоминаний романного персонажа. Пушкин, воспринимавшийся в семье Арсеньевых «с родственной фамильярностью», – почти прародитель, тотемный предок, создатель образа «усадебной России». Он успокаивает и напоминает о неколебимости жизненных основ. «Когда он вошел в меня, когда я узнал и полюбил его? Но когда вошла в меня Россия?» -- соединяет сам Бунин Пушкина и свое автохтонное чувство в статье 1926 года. Связь родной земли и пушкинского творчества для Бунина так же неразрывна, как в формуле М.М.Пришвина: «Моя родина есть повесть Пушкина «Капитанская дочка»»[15].
А вот Лев Толстой – предмет напряженного изучения, размышлений, сопоставлений, он герой не только мемуаров, но и философского трактата, а скорее – экстатического и экзистенциалистского манифеста («Освобождение Толстого»). Толстой – непостижимый и недоступный -- будоражит, зовет к поиску, уходу, изменению жизни: опроститься, стать толстовцем, распространять нелегальную литературу, всем пожертвовать ради творчества, покинуть отчий кров, дойти, наконец, до изнеможения в попытках осмыслить жизнь и смерть.
Если перифраз пушкинских строк в бунинском описании зимней метельной ночи, «зимнего утра» в родной усадьбе создает образ уюта и защищенности, то эпизод чтения Арсеньевым Толстого проникнут совсем иными настроениями. Холодная и бурная ночь, мгла и луна не подчеркивают для Алеши Арсеньева, как в пушкинском стихотворении, уют дома, а разрушают. Ночь, когда Арсеньев перечитывает «Войну и мир», – «какая-то мучительная, оссиановская»[16], полная «небесных знамений», напоминающая, что человек – странник во Вселенной. Рождается ощущение тревоги, тоски по дороге, по духовному странствию. Даже из пушкинского творчества вспоминается теперь только описание дороги -- «Путешествие в Арзерум». Если Пушкин ощущался как родственник, то Толстой (сосед и современник, в чем Алеша Арсеньев прекрасно отдает себе отчет) предстает все-таки в сознании Алеши явлением неправдоподобным, невозможным и зовущим уехать, странствовать, жить во всем мире («Я хочу видеть и любить весь мир, всю землю, всех Наташ и Марьянок, я во что бы то ни стало должен отсюда вырваться!»[17]). Даже интонационно и синтаксически этот экстатический монолог представляет собой отсылку к внутреннему монологу князя Андрея в знаменитом «дубовом» эпизоде.
По воздействию на душу Арсеньева и вообще по своей художественной суггестии чтение Пушкина и чтение Толстого, по мысли Бунина, диаметрально противоположны. Пушкин погружает читателя в чувство сопричастности родной земле, «отеческим гробам». Толстой заставляет вырваться и из времени, и из обжитого родного пространства.
Можно предположить, что у героя Бунина есть основания для такого восприятия произведений Пушкина и Толстого. Вспомним, что у Пушкина любимая героиня – Ларина (от «лары»), странствие Онегина не показано, отрыв Татьяны от родного дома трагичен. У Толстого любимые герои в «Войне и мире» все время перемещаются. Андрей Болконский помнит, конечно, о предке, святом князе, но изображение генеалогического древа в родном доме не вызывает у него благоговения. Он живет больше в мире, чем в родной усадьбе. То же можно отнести и к Пьеру Безухову. «Анна Каренина» скупее на перемещения, но и скучнее (что отмечал сам Толстой). Концепт «дом» связан у Толстого с остановкой внутреннего развития. Дом обустраивает Иван Ильич, за что и наказан, в «Воскресении» весь смысл в отказе от покоя и уюта, крестовом походе против опутавшей Россию лжи, ключевые образы во многих произведениях – образы реки и переправы. Подвижность толстовских героев в пространстве манифестирует интенсивность духовного поиска. Странствие Толстого в мире и в вечности предпринято сознательно как поиск бессмертия.
«Поединок роковой» Лики и «бродника» Арсеньева в романе Бунина отсылает не только к автобиографическому слою романа, но и ко всем бедным Лизам русской литературы («Лика» – это почти «Лиза»). Однако и в этом случае оппозиция номадного и автохтонного проявляет себя как заложившаяся с детства литературная и жизненная модель. С детства мечтая о путешествиях по «замкам Европы» и о посвящении в рыцари, Арсеньев приобретает комплекс странствующего рыцаря, а странствующий рыцарь неизбежно обрекает свою возлюбленную на долгую разлуку. В «Войне и мире» эта модель сказывается в отношениях князя Андрея с его Лизой, а потом – с Наташей (обладательницей сверхавтохтонного имени – «родная, рожденная»). Если Толстой номадность князя Андрея объясняет и оправдывает его правдоискательством, то герой Бунина порой оказывается во власти иррациональных сил.
Мотив скитания Арсеньева по собственным воспоминаниям является дополнением к общей страннической теме. Дон Кихот задает модель поведения странствующего рыцаря, запомнившиеся события – это почти всегда события, связанные с дорогой, с перемещением. И даже первый любовный экстаз герои Бунина переживают в поездке. Оппозиция номадного и оседлого в пятой части романа представлена как извечное противостояние мужчины -- исследователя и первооткрывателя – женщине как хранительнице домашнего очага. Разлука Арсеньева с Ликой предопределена, как нам кажется, даже не «принципиальной непознаваемостью женщины»[18], а принципиальным различием номадного и автохтонного, или, по Пришвину, мужского «центробежного» и женского «центростремительного» начала.
У Бунина есть два фантасмагорических рассказа, в которых «пушкинское», автохтонное, связанное с родиной, имплицитно сопоставляется с «толстовским», вселенским, странническим. Это «Пингвины» (1929) и «Баллада» (1938). В «Пингвинах» представлены традиционные мифологические образы смерти («белая башня» и черная бездна), «траурные» (по общепринятой классификации мифологических птиц -- шаманские) пингвины как символы неприкаянных, пропащих душ, а также ключевые толстовские образы-топосы -- поезд и гостиничный номер со свечой, отсылающие к роковым для Анны Карениной и героя «Записок сумасшедшего» моментам. (Гостиница, как показала О.М.Фрейденберг[19], являлась символом смерти еще в античной традиции). Например, чрезвычайно значимая для Толстого психологическая проза Стерна также содержит «сакральный топос» -- экипаж и гостиничный номер пастора Йорика. Организация повествования мотивами путешествия и воспоминания – стернианский прием, к которому, через толстовскую диалектику души, восходят особенности и бунинского романа, и ряда бунинских рассказов.
Поездка, ямщик, гостиничный номер, тьма, свеча – ключевые концепты рассказа «Пингвины», отсылающие, по замыслу автора, к толстовскому «арзамасскому ужасу». Пушкинское автохтонное начало в этом рассказе сохраняется, даже подчеркнуто, но оно уже не играет роли спасительного. «Пушкин давно умер», -- осознает персонаж-повествователь, и поэтому «везде страшно мертво и пусто»[20]. Смерть Пушкина символизирует уничтожение всего, связанного с великим поэтом, как с тотемом, т.е. хранимого им пространства и времени – России.
В рассказе «Баллада» топоним «Крутые Горы» (по аналогии с названием «Лысые Горы» в «Войне и мире»), образ странницы, упоминания о «дубах», о погасшей свече, а также номинации «старый князь», «великая царица», «заглазная деревня» -- толстовский «пласт» рассказа, а ликантропический «божий волк», спаситель/губитель – пушкинский «субстрат», напоминающий о «буром волке», верно служащем «царевне» (княгине), спасающем ее из «темницы» (княжеского дома). Возможно, что сюжет баллады родился у Бунина как подсознательный парафраз «Руслана и Людмилы» и даже «Капитанской дочки», где Пугачев предстает Гриневу волком в сумеречном свете оборотнической метели, а потом «верно служит» Гриневу и Маше. Если иранский миф о Буром Волке как тотемическом или фратриальном предке занесен в Европу этрусками и трансформировался в предание о Капитолийской волчице (по мысли Ю.С.Степанова[21]), то можно предположить, что и в пушкинской поэме «Руслан и Людмила» «бурость» волка, его функции волшебного помощного зверя, заточение царевны – отголоски истории Реи Сильвии, заключенной в темницу старшим в роде – Амулием.
Реплики толстовских произведений в творчестве Бунина рождались большей частью в соответствии с писательским осознанным замыслом, реминисценции же из пушкинского творчества имеют, по-видимому, глубинный, подсознательный характер. Субъективно в «Балладе» Бунин был искренне далек от каких-либо литературных реминисценций (Бахрах приводит его слова: «Всю фабулу «Баллады» я сам сочинил…»[22]). Для Бунина думать о Пушкине – это думать «и о былой, пушкинской России, и о себе, о своем прошлом…»[23]. Понятие «пушкинская Россия» наполнено у Бунина почти автобиографическим смыслом, о «толстовской» же России он никогда не говорил. Толстой для него – явление, принадлежащее всему миру, сопоставимое и с Буддой, и с Соломоном, и с Екклезиастом, и с Пифагором, и с Христом, и с Марком Аврелием, и с Франциском Ассизским, и с Юлианом Милостивым... Эссе 1925 года «Ночь» («Цикады»), навеянное размышлениями о Толстом и текстуально близкое к «Книге моей жизни», содержит цитату из Анаксагора: «Ничто не гибнет – только видоизменяется»[24]. Никакую пушкинскую «всемирную отзывчивость» Бунину никогда не приходило в голову рассматривать в столь широком контексте. С Пушкиным Бунин связывает неизменное, глубинное в себе, с Толстым же – опыт духовных странствий.
Бунин как бы наследует толстовскую тягу к освоению новых духовных материков, незнакомых культур и религий, всех духовных богатств человечества, т.е. духовную номадность. Толстому и Бунину всегда надо было самостоятельно докапываться до истины, недаром, по Бунину, Толстой «в чужие открытия плохо верил»[25]. Да и Бунин верил, пожалуй, только в открытия Толстого; даже рассказ «Несрочная весна», который приводится Г.В.Адамовичем в качестве примера «антитолстовского», проникнут, на наш взгляд, абсолютно толстовским «странничеством» души и весенним чувством вечного обновления в духе первых страниц «Воскресения». Цитируемые Буниным на первой странице «Освобождения Толстого» слова Толстого о пространстве и времени свидетельствуют о пространстве и времени как странниках, проходящих сквозь жизнь души. Странствие странствий – реинкарнация – присутствует не как мотив, а как сущность, и не в творчестве Толстого, а в самой его личности. Толстой не повествует о Буром волке, а сам имеет, по свидетельству Бунина, «волчьи», т.е. «божьи» глаза (эпитет, повторяющийся не только в «Освобождении Толстого», но и в стихотворениях Бунина, на первый взгляд, ничего общего с толстовской темой не имеющих, например, «Бегство в Египет», «Сказка о Козе»). Это ли не своеобразная способность к перевоплощению (по словам И.Е.Репина, у Толстого была «тысяча глаз в одной паре»), отмечавшаяся многими мемуаристами?
Ангел смерти (имеется в виду Израил, или Азраил, один из четырех главных ангелов мусульманской мифологии) «весь покрыт глазами» и наделил Толстого зрением «существа иных миров»[26]. Бунин говорит об этом, как о чем-то само собой разумеющемся, мимоходом ссылается на Льва Шестова, Платона и Эврипида. Сравним с торжественностью посвящения во всевидение в Книге Исаии и особенно пушкинском «Пророке»! Для Исаии и героя «Пророка» встреча с Серафимами была единственной. А Бунин весь жизненный путь Толстого считает посвятительным испытанием (почти согласно Р.Генону, который говорит: «Состояние «скитания», или странствия, есть <…>, если говорить в целом, состояние «испытания»»[27]). Закономерно, что «все Некрополи, все кладбища мира» влекли Бунина[28], как и Толстого в изображении Бунина – «все погосты». Бунин стал скитальцем в прямом смысле этого слова с юности, Толстой прожил скитальцем последние несколько дней своей жизни, но пилигримами, «матросами Божьими», как назвал Бунина Ю.Айхенвальд, оба были всю жизнь.
Видный западный славист Р.Ф.Густафсон сопоставляет понятия Residentи Stranger в применении к персонажам Л.Н.Толстого[29]. Как и следовало ожидать, «чужак», склонный недооценивать народную правду и тяготеющий к Западу, объявляется в этом труде героем, во многом проигрывающим по сравнению с «обитателем». Сама постановка вопроса о «русском скитальце», разумеется, не нова, но и решение проблемы с позиций «почвенничества» в толстоведении исчерпало себя.
Что же касается Бунина, то отрадно, что отнесение его творчества к той литературе, которая получила оксюморонное определение «литература русского зарубежья», не воздействует гипнотически на исследователей, не заставляет акцентировать противопоставление «родины» «чужбине». Разделение на «миры», «страдальческая тема русской жизни и литературы», «тема эмиграции и изгнанничества», предсказанная, по мысли Ю.С.Степанова, еще лермонтовским «Ангелом»[30] (наряду с бесспорной космической темой всей вообще поэзии Лермонтова), не была ведущей, как это ни парадоксально, в мироощущении Бунина. «Я вообще считаю неудачной попытку связать упадок или развитие таланта с оторванностью или прикрепленностью в родной земле», -- замечает Бунин в одном из интервью 1910 года[31].
Близость «Освобождения Толстого» к философии экзистенциализма и к русскому космизму – тема, поднимавшаяся в работах Ю.В.Мальцева, О.Н.Михайлова, Л.А.Колобаевой, О.В.Сливицкой, Р.С.Спивак, Г.Б.Курляндской. На наш взгляд, недооцененный труд Бунина «Освобождение Толстого», переводящий вопрос с уровня «почвы» и «странствий» на уровень экзистенциалистский и даже «космистский», не говоря уж об особой роли принципиальных отсылок Бунина к религиям и философии Востока, должен быть более пристально рассмотрен в свете положений о том, что «модель бунинской биполярности не совпадает с европейской» (О.В.Сливицкая)[32], и что «мысль о причастности человека трансцендентному содержанию, которое выходит за пределы конечности мира, объединяет Бунина с Л.Н.Толстым» (Г.Б.Курляндская)[33].
Бунин начинает «Освобождение Толстого» буддистской проповедью. Одна из заповедей буддизма гласит: «Быть в пути, но не покидать дом; покинуть дом, но не находиться в пути»[34]. По-видимому, Пушкин как генератор автохтонной суггестии и Толстой как великий номад в представлениях Бунина после 1937 года (столетие смерти Пушкина и год создания «Освобождения Толстого») породили не антиномию, а грандиозное «автокосмическое» чувство: человечество – уроженец и житель Вселенной. Может быть, сознание этого «космического почвенничества» и есть главный дар Бунина нам, жителям ХХIвека.
[1] Цит. по : Мальцев Ю.В. Иван Бунин. 1870-1953. – М.; Посев, 1994. – С.80.
[2] См.: Античная философия. Энциклопедический словарь. – М.: Прогресс-Традиция, 2008. – С.109.
[3] Недзвецкий В.А. Русский социально-универсальный роман ХIХ века. – М.; Диалог-МГУ, 1997. – С.204.
[4] Бунин И.А. Полн. собр.соч. в 13 тт. -- М.; Воскресенье, 2005 – 2006. -- Т.15, доп. С.347.
[5] Там же.
[6] Бахрах А.В. Бунин в халате. По памяти, по записям.—М.; Вагриус, 2006. – С.123.
[7] Там же, с. 134.
[8] Бунин И.А. -- Т.5. -- С.204.
[9] Бунин И.А. – Т.13. -- С.164, 167.
[10] Тер-Абрамянц А.П. Созвездия Ивана Бунина.// И.А.Бунин и русская литература ХХ века. – М.; Наследие, 1995. – С.116.
[11] Соловьев В.С. Мухаммед. // Будда Шакьямуни. Конфуций. Мухаммед. Франциск Ассизский: Биогр. Повествования. – Челябинск; Урал, 1995. – С.163.
[12] Гольденвейзер А.Б. Вблизи Толстого. – М., 1959. -- С.172.
[13] Бунин И.А. – Т.5. -- С.8.
[14] Бунин И.А. – Т.10. -- С.49.
[15] Пришвин М.М. Дневники. 1932-1935. – СПб.; Росток,2009. – С.298.
[16] Бунин И.А. – Т.5. -- С.137.
[17] Там же, с.138.
[18] Мальцев Ю.В. – С..55.
[19] См.: Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра.. – М.; Лабиринт, 1997. – С.227.
[20] Бунин И.А. – Т.5. – С..311.
[21] См.: Степанов Ю.С. Константы. – М.; Языки русской культуры, 1997. – С.699-712.
[22] Бахрах А.В. – С.126.
[23] Бунин И.А. – Т.8. -- С.7.
[24] Ср. слова Анаксагора: «Ничто не рождается и не гибнет, но соединяется из вещей, которые есть, и разделяется» (Античная философия. Энциклопедический словарь. – М.; Прогресс-Традиция, 2008. – С.110).
[25] Бунин И.А. – Т.8. -- С.94.
[26] Там же, с.125.
[27] Генон Р. Масонство и компаньонаж. Легенды и символы вольных каменщиков. – Воронеж; TERRAFOLIATA, 2009. – С.88.
[28] Кузнецова Г.Н. Грасский дневник.. – М.; Астрель, Олимп, 2010. – С..297.
[29] Густафсон Г. Обитатель и чужак (пер. Т.Бузиной). СПб., 2003.
[30] Степанов Ю.С. – С.133.
[31] Бунин И.А. – Т.13. -- С.17.
[32] Сливицкая О.В. Основы эстетики Бунина. Бунин и русский космизм. // И.А.Бунин: proetcontra. – СПб.; РХГИ, 2001. – С.459.
[33] Курляндская Г.Б. Нравственно-философские мотивы в творчестве И.А.Бунина и их эстетическое выражение.// И.А.Бунин и русская культура ХIХ – ХХ веков. – Воронеж; Квадрат, 1995. – С.12.
[34] Миура Иссю, Сасаки Рут Фуллер. Коаны дзэн. – СПб.;Наука, 2006. – С.106.